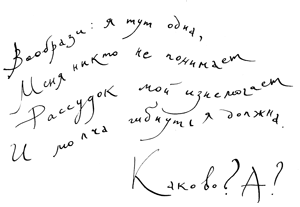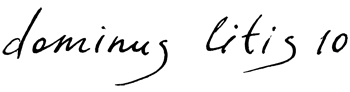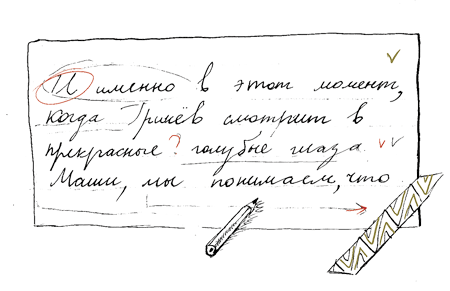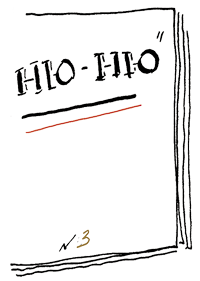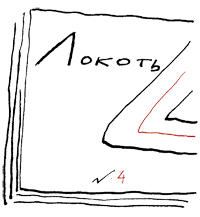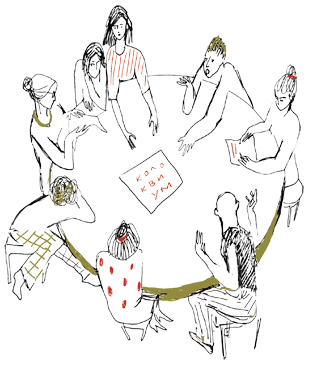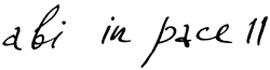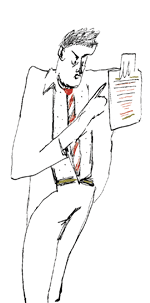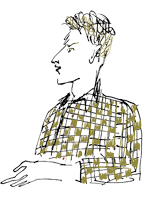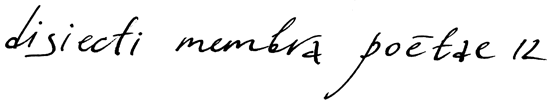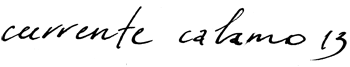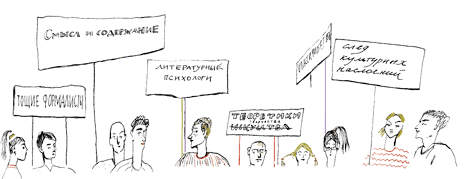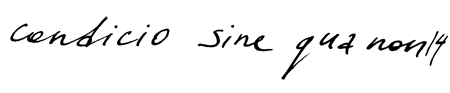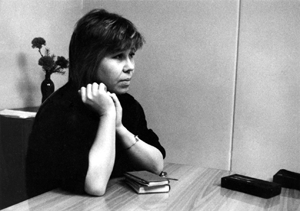Часть 1. ab initio
По Экклезиасту: время и случай
есть для человека. Для всего —
свое время и свой случай.
Часть 2. ритурнель
Почему для человека так важно
понять — где начало тех или
иных явлений, которые стали
для него главными?
Часть 3. аb imo pectore
Есть в нашем лицее мифы,
которые с особенной любовью
и нежностью пересказываются
из года в год.

9 Из самой глубины души; от всего сердца (лат.). Лукреций. «О природе вещей», III, 57–58
Nam verae voces tum demum pectore, ab imo Eleciuntur, et eripitur persona, manet res.
Ведь из сердечных глубин лишь тогда вылетает невольно
Истинный голос, личина скрывается, суть остается.
(Пер. Ф. Петровского)
Лукреций говорит о том, что люди, которые утверждают, будто учение Эпикура, освобождающее от страха смерти, для них излишне, обнаруживают свою неискренность, когда они действительно оказываются перед лицом смерти.
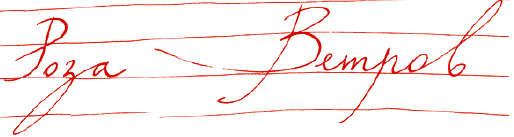

Татьяна Михайлова
Записки директора школы
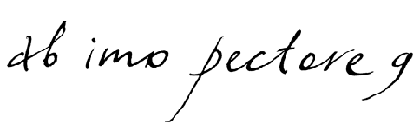
Отряхну моя печали. Есть в нашем лицее мифы, которые с особенной любовью и нежностью пересказываются из года в год. Передаваясь из уст в уста, они обрастают новыми подробностями, озаряются новым светом.
Один из первосюжетов повествует о первом вечере посвящения в лицеисты, единственном, не запечатленном на видеопленку.
Я пишу сейчас, и моя рука не успевает за мыслью, за столь дорогим моему сердцу воспоминанием.
Вечер получился умопомрачительным. Вся любовь, вся энергия, накопленные за несколько лет, соединились в нем, подобно тому, как в греческой точке акме смыкалась предшествующая и последующая жизнь античного человека. Номером один в нашей программе была не-рок-не-опера «История девочки Манюни, или как стать ботаником». Действие посвящалось ботаническому классу.
Я как сейчас вижу: на сцену выходит Петя Суворов в круглых очках без стекол, с папкой под мышкой, чешет подбородок и начинает интродукцию: представляет действующих лиц и сопровождает комментарием выход костюмированных исполнителей.
Петя: «Манюня Гомозиготова, девочка».
Под гомерический хохот зала возникает Манюня-Вольский.
Петя: «Амеба».
В ластах, в купальной шапочке с дырочками, из которых жидкими пальмами торчат волосы, выплывает Марат Воронцов.
«Манюня» — это трогательная история, невольно породившая архетип всех будущих лицейских спектаклей ко дню посвящения (герой мечтает поступить в лицей, преодолевает на пути к заветной, но по ряду причин труднодостижимой цели различные препоны и к финалу благополучно становится лицеистом).
Наш первосюжет повествовал о бедной, покинутой всеми Манюне, умной и наблюдательной девочке, одиноко бродящей по жестокому городу.
На репетициях мы долго не могли подобрать выходной арии главной героине. Придумывали, спорили, ругались, перебивали друг друга. И вот самый активный участник скандалов, Илья Вольский, в какой-то момент закрыл глаза и начал ритмически подергивать бровями, носом, пальцами и коленками. Все замерли.
Илюша открыл глаза, прочистил горло и начал: «Люди! Теперь, когда все вы.… Нет, так я не согласен. Все должны встать, — остановил он себя и приподнялся со стула. Все сразу встали.
— Люди! Теперь, когда все вы, истощенные нервным и счастливым творчеством, маетесь дурью, я дарю вам (безвозмездно) только что рожденный фрагмент либретто… Маэстро. Жгучее танго в ритме раз-два-три-четыре-пять…».
И под аккомпанемент Ани Шиленковой Вольский козлиным голосом запел: