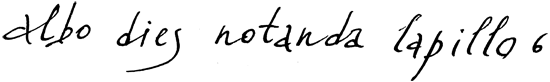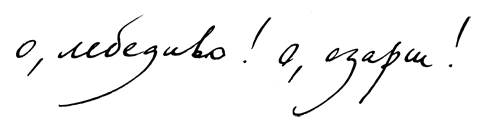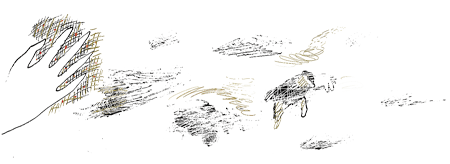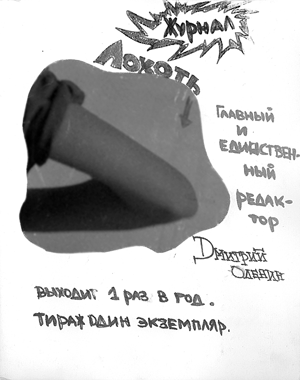Часть 1. ab initio
По Экклезиасту: время и случай
есть для человека. Для всего —
свое время и свой случай.
Часть 2. ритурнель
Почему для человека так важно
понять — где начало тех или
иных явлений, которые стали
для него главными?
Часть 3. аb imo pectore
Есть в нашем лицее мифы,
которые с особенной любовью
и нежностью пересказываются
из года в год.

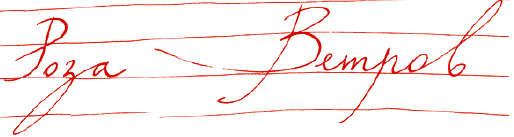

Татьяна Михайлова
Записки директора школы

В 17 лет я попала в театр-студию «На ладони», что располагалась на Малой Якиманке; руководили ею Сан Саныч Кобозев и Алексей Сергеевич Питерских, Пит…
Сан Саныч, как я теперь понимаю, был организатором жизни сообщества, «близким педагогом», непосредственно влияющим на каждого. Пит же, «как бы» стоящий в стороне, вполоборота от нас, являлся главным идеологом, носителем концепции, Демиургом студийной жизни. Влияние его было не стремительным, «тут-же-минутным», но замедленным во времени и пространстве. Такой жизненный рапид.
Это я теперь так все понимаю.
Тогда же, находясь внутри студийного сообщества, я совершенно не осознавала значения того, что происходило со мной, с нами.
Это я теперь начинаю обрамлять мою нынешнюю жизнь теми событиями. Иногда нарочно, прямо-таки до головной боли, заставляю себя вспомнить один, другой, третий эпизоды. Узнавать какой-то новый штрих, новый момент. Штрихи и моменты вспоминаются, но целостную картину мне приходится досочинять, домысливать.
В студии была организована самая настоящая школа — из «предметов», которые я помню, нас обучали чему-то близкому к сценическому движению, сценической речи и актерскому мастерству. Мы назывались «первый курс». Учили нас посредством наших собственных усилий.
Хорошо помню первое задание: было предложено, самостоятельно организовавшись в маленькие группы, подготовить сценические фрагменты и выступить в роли, о которой каждый мечтает («звездная» ипостась), и в роли, которая каждому, по его разумению, более всего подходит («рабочая» ипостась). В некоторых случаях ипостаси могли совпадать.
Я была Бабой Ягой. Меня тянуло к эксцентрическим выражениям и к сильному сценическому дыханию. Эпизод, который мы разыграли с Севой Харитоновым (Иваном-Царевичем), чуть не кончился моей контузией. Все произошло следующим образом. Баба Яга, устав от танцевального состязания, должна была рухнуть в изнеможении, что я и проделала, приземлившись пятой точкой на швабру (ее я использовала за неимением метлы). Тут швабра завибрировала и, подскочив (а я случайно села на саму щетку), заделала мне палкой в лоб здоровенную шишку, потом покачалась и влепила еще. Каждое мое последующее движение эта деревянная дура сопровождала своим. Уразумев параллелизм усилий, я на некоторое время замерла, боясь пошевелиться (чтоб не получить по лбу снова), потом осторожно ретировалась. Сан Саныч, оценивая показ, одарил меня непринужденным комплиментом, вроде того, что с этим нужно выступать в цирке.
Моя Баба Яга стала притчей во языцех. Один из старших студийцев, Петя Черняев, терпеливо воспитывал меня в длинных студийных коридорах, объяснял, что литературный материал, который я выбрала, — дурной, бедный в художественном отношении, кич.
Через десять лет Петя станет ведущим популярной телепередачи «Воскресный кинозал», в которой будет разбирать невысокохудожественные, плохо сделанные кинофильмы — одним словом, кич. Правда, он придумал ход. Собственно профессиональный, киноведческий комментарий он подменял разговором о зрительских впечатлениях, зачитыванием восторженных писем телезрительниц о «Зите и Гите» и подобных «шедеврах».